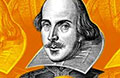Интервью Нины Щербак, о новой книге «Фермата Лауры»

Нина Щербак, доцент СПбГУ о новой книге «Фермата Лауры». Об Иуде, предательстве, травмах.
О чем Ваша новая книга «Фермата Лауры»?
Это очень спонтанная книга, очень быстро написанная. Она посвящена теме предательства, в общем-то, целиком, от и до, неслучайно ее выход был приурочен к Пасхе.
Название книги отсылает к музыкальному термину фермата — задержке, зависанию, когда звучание выходит за рамки измеряемого времени. Это символическое обозначение: попытка зафиксировать момент, поймать дыхание эпохи, дать читателю возможность вслушаться в коллективное сознание современности.
Но это и очень личная книга. Герои рассказов проходят через эмоциональные узлы последних лет: от боли и утрат до вспышек радости и нежности. Хронотоп современной жизни (2022–2025) пронизан флешбэками, которые возвращают читателя к ранним травмам и истокам выбора.
«Пенный дух», «Фурия», «Иуда», «Лаура», «Пузыри земли», «Цвет красный», «Мне 14 лет, или Марианна» — тексты, написанные в общем-то под большим стрессом и давлением эпохи.
Тема предательства требует очень подробного рассмотрения.
Главных героев предают?
Нет. Их не могут предать, потому что я, как автор, внимательно слежу за тем, чтобы предательство не имело место быть. Мои герои избегают предательства, спасаются, и не только потому, что им помогают добрые силы. Необходимо усилие героев, по преодолению своих комплексов, травм и эгоизма.
Добро и зло не всегда легко различить, поэтому нюансы коллизий для меня, как для автора, особо важны. Тем более, что все очень субъективно. К кому-то герои относятся с огромным пиететом, к кому-то – нет. Особое внимание я уделяю травмам некоторых героев, которые и приводят к непорядочным действиям.

А кто такой Иуда…?
Иуда – это ученик Христа, или его близкий соратник, почти такой же как он сам. Иуда предает Христа на крестные муки. Каждый элемент, связанный с описанием Иуды – очень важен.
Иуда, как мне кажется, это не только и не столько тот, кто любит деньги и способен ради них кого-то предать, это тот, кто сознательно ведет своего друга и учителя на крестные муки по причине болезни собственной души.
Евангельский текст недвусмысленно свидетельствует, что Иуда предал своего Учителя за тридцать серебреников. Но почему после исполнения своего замысла он с такой легкостью возвращает деньги назад?
Все эти вопросы возникают оттого, что предательство — это тайна больной души. Предатель вынашивает в сердце свои преступные планы и даже скрывает их от окружающих. Иуда никому не открывал своих намерений до самой своей гибели. И о том, что происходило в его душе, евангелисты, конечно же, не могли знать в точности.
Евангелие рассказывает о предательстве скупо, что правомерно. Ведь Евангелие — история нашего спасения, а не история предательства Иуды.
Евангелистам Иуда интересен только в связи с Крестной Жертвой Спасителя, но никак не сам по себе. Поэтому история падения Иуды навсегда остается тайной.
Но тайна эта, действительно, всегда волновала людей. Это особо современно сейчас, так как время - «очень неверное», верность не в моде.
Попытка осмыслить предательство Иуды требует реконструкции недостающих фактов с различной степенью вероятности. Есть один факт, не зная которого невозможно понять внутренних побуждений Иуды. Их приводит в своем Евангелии апостол Иоанн. Иуда был — вор.
Но! Но! И здесь не все так просто. Для меня не важен такой факт как реальное указание на свойства Иуды. Я, например, понимаю, в отличии от некоторых интерпретаторов, что текст Евангелия более метафоричен, чем может показаться. Не только и не столько деньги можно украсть! Украсть можно все, что угодно! И в этом Иуда человек особый.
Иуда - тот, кто берет то, что ему не принадлежит, тщательно готовится, имеет тайные цели. Иуда – это тот человек, который болен душой. Для моего текста важен именно опыт травмированной души. Души, претерпевшей ужасы травм, которые и ведут к предательству.
Были ли какие-то литературные произведения, которые оправдывали Иуду?
Да. Были. Но они меня интересуют в меньшей степени.
А какие травмы Вы имеете в виду?
Есть травмы, которые заставляют людей контролировать, отбирать, присваивать себе. Есть ряд особенностей психики, которые приводят к таким последствиям.
Какие-то примеры?
Я, например, подробно анализировала творчество радикальной феминистки Жанетт Уинтерсон. Ее романы посвящены поиску великой и настоящей любви, на самом деле в своей классической книге «Письмена на теле» она возвращается к теме поиска великой любви, но в результате уничтожает предмет своей любви, буквально расчленяет его. То есть тема книги красиво названная как вечная любовь – не является любовью, а становится фактически уничтожением другого человека. Это и есть результат травмы, сложные отношения с приемной матерью, и так далее.
То же самое, например, можно обнаружить в творчестве Сэлинджера. Это послевоенная травма, от которой писатель не может избавиться. Замечательные «Девять рассказов» - тексты, в которых обнажается сама история создания рассказов, когда Сэлинджер справлялся с депрессией. После того, как входил в концентрационные лагеря, освобождая узников, после участия в военных действиях. Текст словно оживает, мы чувствуем дыхание героев, их прикосновение, посредством зрительного восприятия, мы можем ощутить нюансы описания комнаты и обстановки, мы слышим как звучат предметы, слышим раскаты громкого эха. Это сознательное нарушение причинно-следственных связей, и поиск новых форм.
Или, например, американский фильм «Материнский инстинкт» - блестящая работа американских кинематографистов о том, что может сделать женщина ради ребенка, как она может даже пойти на убийство, не только предательство. В общем-то в этом фильме детально воссоздана психика больного человека. Я думаю, что режиссерам была интересна ситуация травмированной психики.
А эссе?
Эссе в моей книге — размышления на стыке искусства, политики и культуры. Я, например, анализирую крах и крушение как мотивы американского романтизма, фолк-музыку как политическое высказывание, а также затрагиваю острую тему «размытого гендера» в кино. Особое место занимает эссе о Дали и Гале — личной и творческой паре, воплотившей абсурд, страсть и миф XX века.
В общем-то эти темы не совсем совместимы, они очень разнонаправленные. В отношении «размытого гендера» это снова - область травм, подсознания, которые влияют на действия героев. То, что определенного рода идеология, наводнялась в какое—то историческое время по всему миру - есть большая доля продуманности. И это сказывается на целых поколениях. Вскрыть механизмы такого позиционирования – очень важная тема для меня, потому что идея «размытого гендера» опосредованно сильно травмирует окружение героев, формирует их характер.
А еще меня очень интересует тема «поверхностного чтения», эта идея хорошо изучена американскими и немецкими исследователями-лингвистами. Она направлена на то, чтобы специалисты, изучая тексты, могли их правильно декодировать. То есть научиться понимать их настоящий, истинный смысл. Так, при ближайшем рассмотрении, оказывается, что фильмы Каннского фестиваля это – пропаганда, ярко выраженное позиционирование, пример культурной апроприации.
Так, фильм «Анора», получивший столько наград - фильм, в котором есть позиционирование русского мальчика как слабого, бесхарактерного, в общем-то отвратительного типа, что очень досадно.
А в фильме «Все, что нам кажется светом» индийских кинематографистов, тоже победителя Каннского фестиваля - ярко выраженное позиционирование западных ценностей, культурная апроприация, сознательное разрушение традиций исконной культуры. Фильм снят режиссером, которая сама - выходец из Индии. Ей удается пройти испытания принятия западных ценностей, она проходит этот путь обмана, коммерчески, политически обусловленного, и … в результате, снимает добрый, красивый, умный фильм, в котором, однако, звучит мысль, весьма неоднозначная. «Жизнь – как река, нужно отдаться ее течению».
С одной стороны, это так. Но, с другой стороны, не все в этой жизни нужно принимать. Не все можно принять. Многие вещи принимать не следует. Ведь западная цивилизация во многом для Индии была губительна. Это в силу своей внутренней глубокой сущности, индусы потом в благодарность – Бог знает за что – продолжали уважать и ценить англичан, которые буквально уничтожали их исконную цивилизацию. Но говорить о том, как замечательна эта западная цивилизация однозначно, увы – не приходится.
История Галы и Дали - тоже история травмы, о которой я пишу более подробно. Там много продуманности, и много от мещанского быта и понимания жизни. Тем не менее, очень интересно изучать, как мифология этой истории сопрягается с реальностью. Дали не был очень глубоким художником, история эта скорее эпатажная, но читать и писать на эту тему весьма интересно.
Боб Дилан – тоже яркая история. Очень талантливый музыкант, и очень непростое время, один из штрихов к портрету Нью-Йорка.
Интервью?
Интервью — третье измерение книги. Это диалоги с профессором Сергеем Фирсовым (о мифе Сталина) и профессором Игорем Дмитриевым (о феномене Менделеева), в которых критическая мысль и историческая глубина обнажают неочевидные стороны отечественной культуры и научной памяти.
В чем особенность этих интервью?
Интервью с профессором Фирсовым о его книге о Сталине и мифе вокруг него. Это очень важная книга для меня, потому что она во многом объясняет, какие мифы существуют вокруг известных людей, и как важно независимое мышление, вера в хорошее, даже если это связано с историческим периодом невероятных страданий и лишений.
Книга С.Ю. Фирсова «Сталин, миф и образ» словно возвращает нас не только в мир прошлого, но позволяет зрело и здраво посмотреть на многие вопросы. Замечательная и яркая история, как сын Сталина стоит рядом с вождем, тот смотрит на Красную площадь и говорит: «Ты думаешь, это я Сталин? Ты думаешь, это ты Сталин? Сталин – вон там!», указывая на свой огромный портрет на Красной площади. Или знаменитый миф о том, что Черчилль якобы сказал, что Сталин пришел на свой пост с сохой, а покинул его с атомной бомбой.
Так вот Черчилл, судя по архивам, этой фразы никогда не говорил! В этой связи, конечно, «симптоматическое чтение» или «поверхностное чтение» - это иной феномен, это как раз о том, что такое – декодирование реальных смыслов, а не придуманных.
А книга о Менделееве?
Это книга - очень интересная. Книга – мощнейший труд о судьбе известного химика. О его частной жизни, непростом характере и сложной натуре, об историческом контексте того времени.
О чем Вы планируете следующие книги?
Мне хотелось бы рассказать, немного в традиции Чехова, о том, что такое хороший человек, который вдруг превращается в плохого, и плохой человек, который превращается в хорошего, уловить сложность человеческую, вне страстей американского романтизма, с его взлетами и развенчиванием, это слишком наивная и старая парадигма.
И мне хотелось бы быть откровенной в отношении представителей интеллигенции, образу которой я хоть и отдаю должное, но на этом жизненном этапе – чуть меньше. То есть я хотела бы описать нелицеприятные свойства якобы интеллигентных людей, высветить их.
Я бы хотела написать, как герои ранимые, но прямые, несут в себе удивительные свойства земли, памяти и правды. А герои, очень рафинированные, за красивыми и вежливыми фразами скрывают нечто совершенно убийственное.
Возможно, я как-то пересмотрю свои позиции, но мысленно я часто возвращаюсь к рассказу «Шиповник» из книги замечательной актрисы Людмилы Гурченко «Мое взрослое детство». Там была эта замечательная фраза о неискренности: «а потом начинаются все эти вежливые слова, за которыми ничего не стоит! Я это узнаю, и я это ненавижу»!
Искренность есть свойство здоровой души, которая освобождена от греха. Культура и духовность – это неоднозначно одинаковые понятия. Культура - хорошо, но духовность – это материя более высокого свойства, которая, наверное, и высвечивает Христа и Иуду, отличают их друг от друга.
И я, конечно же, хотела бы отделить себя от проживания описываемых проблем. Написать об этом более абстрактно, перестать воспринимать какие-то вещи как часть себя. В этом желании рефлексии, возможно, будет новый этап творчества.