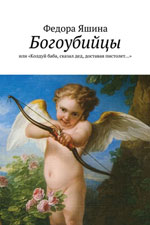Борис Прокудин, кандидат политических наук: Мог ли Достоевский стать революционером

Мог ли Достоевский стать революционером, войти в исполнительный комитет террористической партии, бросить бомбу, убить человека? Разумеется, не мог! Хотя самые страшные преступления в его романах написаны с таким правдоподобием, что наивные читатели часто принимали это за описание собственного опыта. Как у него это получалось? Я попробую подступиться к этой загадке.
Вообще, русская литература философична. Пусть Россия не дала миру ни одного оригинального философа, она дала самых философичных писателей: Толстого, Достоевского, Тургенева, Платонова. Сила мысли нашего народа выразилась не в научных трактатах, а в художественных образах. И разница здесь в том, что философские идеи в романах не просто логически излагаются, а они проживаются. Автор вместе со своими героями проживает философию и имеет возможность наиболее мучительные для себя вопросы, передав персонажу, довести до предельного состояния.
Именно так работал Достоевский. И вопрос, способен ли человек на убийство, он проживал на самом остром экзистенциальном уровне, хоть и виртуально. А довести идею до конца, нанести последний удар — это он передавал своим героям, например Раскольникову или Петру Верховенскому. На Верховенском я хотел бы остановиться, ведь именно в этом образе Достоевский объективировал свое увлечение социалистическими идеями. Речь пойдет о романе «Бесы».
В юности Достоевский был социалистом. В возрасте двадцати шести лет он начал посещать кружок фурьериста Петрашевского. Кружок был разговорный и безалаберный, не знал ни дисциплины, ни иерархии, ни особой конспирации. Однако почти одновременно с Достоевским кружок стал посещать молодой аристократ — Николай Александрович Спешнев, загадочная личность, которого Достоевский в дневнике будет называть «мой Мефистофель». Он был «демонически» красив и умен, вел себя независимо. Сверх того он только вернулся из-за границы, где якобы был связан с таинственными революционными центрами и типографиями.
Как раз с именем Спешнева связана короткая история Достоевского-революционера, так как внутри рыхлого кружка Петрашевского Спешнев решил создать группу настоящих борцов, радикалов, готовых к агитации в пользу насильственной революции, вооруженного переворота в России. Достоевский вошел в группу Спешнева как ближайший соратник. Они успели познать вкус конспирации, тайных собраний, они собрали подпольный типографский станок. И даже успели в одном из членов заподозрить шпиона и думали: если так, то что с ним делать? И во всем этом участвовал Достоевский. Группа Спешнева ничего не успела совершить, их вскоре арестовали, но начало революционной деятельности Достоевским было положено.
Именно поэтому новость о политическом убийстве студента Иванова, которую Достоевский узнал двадцать лет спустя, в 1869 году, произвела на него такое сильное впечатление. Труп Иванова нашли в пруду парка Петровской академии в Москве. Вскоре стало известно, что Иванов был членом тайного общества «Народная расправа» и якобы собирался сдать его властям, и за это, по версии следствия, его убил организатор этого общества, Сергей Геннадьевич Нечаев, при помощи своих верных сообщников, четырех нечаевцев, которых он, пользуясь случаем, фактом коллективного убийства предателя, хотел «повязать кровью».
Достоевский был потрясен: по описанию Нечаев был сильно похож на Спешнева, «Народная расправа» — на их «особый кружок», а нечаевцы ничем не отличались от петрашевцев. Позднее, в 1873 году, Достоевский писал, что в юности он «мог бы стать нечаевцем», то есть мог бы оказаться в числе тех, кто убил Иванова. Эта расправа его так поразила, что он бросил все старые творческие задумки и решил писать об этом роман.
Можно предположить, что Достоевский в истории с Нечаевым увидел, что могло бы произойти с его кружком, не случись ареста. Ведь если ты сделал своей целью насильственную смену власти, а не просто разговоры о Фурье и крепостничестве, ты должен поставить перед собой два важных вопроса: готов ли ты сражаться и быть убитым? И главное, готов ли ты убить сам? И не только врага, а предателя, одного из своих. Есть вариант никого не убивать и благородно принести себя в жертву. Но это благородство двусмысленно, ведь жертва в конечном счете подразумевает такое же насильственное отмщение.
Когда дело Нечаева получило широкую огласку, все начали открещиваться от этого изверга. Герцен, Бакунин — все в голос осудили изувера, но ведь Нечаев был просто последовательным практиком, в отличие от них. Он мог действовать коварно, обманывать, да, но вместе с тем следовал железной логике развития идеи о насильственном свержении строя. Скорее всего, Достоевский понял непреложность этой логики только на каторге.
Достоевский говорил, что на каторге произошло «перерождение его убеждений». С этим трудно спорить: уходил на каторгу социалист, а вернулся глубоко религиозный человек. Однако его перерождение требует уточнения, потому что Достоевский никогда не был атеистом. В отличие от богоборцев Петрашевского и Спешнева, он, скорее, был христианским социалистом, ему были близки идеи Жорж Санд о том, что если Христос и не был сыном Бога, то был первым социалистом и гуманистом. Тогда ему казалось, что христианство и социализм легко совместимы: у них одинаковые цели — защита бедных людей, униженных и оскорбленных. На каторге же он осознал, что если ты последовательный социалист, ты должен идти на свержение самодержавной власти и должен быть готов убивать. В этом случае неизбежно приходится отказываться от Христа. Ведь Христос — это прощение, милосердие и жертва ради других. Поэтому или ты с социализмом против Христа, или с Христом против социализма. Это был вывод Достоевского.
Он понял, что случай Нечаева — это универсальная модель революционного действия, когда вместо заповеди «не убий» утверждается: «ты должен убить» ради «великого дела». «Раз отвергнув Христа, — писал он, — ум человеческий может дойти до удивительных результатов». Вот в романе «Бесы» Достоевский показывает результаты. Принято считать, что роман «Бесы» антинигилистический, но это не так. Он задумывался как антинигилистический, но в процессе написания Достоевский не ограничился критикой радикализма и высказался по поводу всех основных направлений русской мысли.
Кроме радикалов сильно досталось либералам. Вообще, одна из задач, которую ставил перед собой Достоевский в романе, — проследить связь либералов 1830–1840-х годов и нечаевцев. Он писал: «Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту преемственность мысли я и хотел выразить в произведении моем». В романе есть два либеральных персонажа — Степан Трофимович Верховенский и писатель Кармазинов. Их прототипы — Грановский и Тургенев. И это откровенно комические персонажи, смешные, напыщенные и как будто безвредные.
В чем же «преемственность мысли» от либералов к нигилистам, что их объединяет? Те и другие поддались влиянию европейской прогрессивной мысли. А «русская сторона» прогрессизма, по мысли Достоевского, состоит в том, что мы традиционно усваиваем западные идеи некритично и всегда доводим их до крайности. Либеральные фундаменталисты у Достоевского презирают Россию и все русское как отсталое и равнодушны к Богу. Именно эти две черты, развиваясь со временем, порождают нигилистов, которым уже здесь, в России, ничего не жаль. И они готовы на полное разрушение.
Но, взявшись «высечь» нигилистов и либералов, Достоевский, видимо, в какой-то момент понял, что такими же опасными в своем развитии могут стать и консервативные идеи. Так появилась линия философии Шатова. Шатов изрекает в романе идею о народе-богоносце. Это раннее выражение самых сокровенных верований самого Достоевского, которые мы потом прочитаем в его известной «пушкинской речи».
Шатов говорит, что народ — это прежде всего религиозное единство. И любой великий народ, если он не хочет примириться с второстепенной ролью в человечестве, должен быть убежден, что только в нем одна истина. И единственный народ-богоносец — это русский народ, говорит Шатов, убежденный, что его мысли — это новое слово, а не перепевы старого славянофильства.
И действительно, это совсем не славянофильство. Тут нет христианского универсализма, свойственного славянофилам. Это религиозный национализм, который был близок автору. Однако Достоевский делает Шатова тоже одержимым. Если выше Бога ставится национальная идея, начинается бесовство. Как писал философ Сергей Булгаков, Шатов оказывается идеологическим предшественником болезненного течения в русской жизни, когда национализм становится выше религии, а православие — средством политики. В наиболее концентрированном виде эти идеи были выражены философом Иваном Ильиным, который в работе «О сопротивлении злу силою» писал о религиозной легитимации убийства. Если в системе ценностей Нечаева вместо заповеди «не убий» утверждается, что «ты должен убить» ради «социалистического дела», то у Ильина следующее: «ты должен убить» ради «православного дела».
Одним словом, можно сказать, что Достоевский в романе «Бесы» художественно объективировал два собственных соблазна, два искушения. Бланкистский соблазн социалистической юности приобрел образ Верховенского, националистический соблазн консервативной зрелости — образ Шатова. «Бесы» — роман об одержимых мыслью, о тех, кого «съела идея». Ведь сострадание угнетенным и борьба с несправедливостью — святое дело. Но когда эта борьба ведется, презирая нравственность и человечность, начинается бесовщина бланкизма.
Любовь к прогрессу, свободе, достоинству человека прекрасна. Но когда эта любовь выливается в презрение к своему Богу, к своему народу, к своей стране, начинается бесовщина крайнего либерализма. Наконец, служение родине и патриотизм — благородно и возвышенно. Но когда любовь к родине обозначает презрение к другим народам и отменяет нравственность, начинается бесовщина крайнего национализма. То есть нет хороших и плохих идеологий, правильных и неправильных. Все они, сосуществуя с другими, отражают важные запросы общества. Страшны те идеи, которые доведены до абсолюта и претендуют на тотальность. Хотя, скорее всего, Достоевский в романе «Бесы» хотел сказать совсем другое.
Источник: postnauka.ru